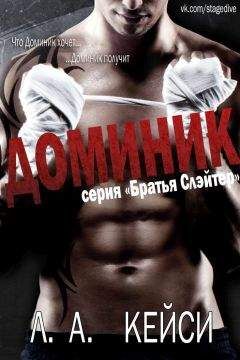Чак Паланик - Колыбельная [litres]
И она говорит у меня за спиной: если есть заклинание, чтобы убить, то есть и другое – чтобы вернуть их к жизни. Тех, кого ты убил.
Может быть, это мой второй шанс.
Она говорит у меня за спиной: может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которые не совершили. За дела, которые не довели до конца.
У меня снова бибикает пейджер. Нэш просит срочно перезвонить.
Я не останавливаюсь. Я иду, припадая на больную ногу.
Глава шестнадцатая
На это раз Нэш не стоит у стойки. Он сидит за маленьким столиком в глубине бара, в самом темном углу. Если бы на столе не горела свечка, он бы сидел в полной темноте. Я говорю: привет, получил твою тысячу сообщений на пейджер. Я говорю: почему вдруг такая спешка?
На столе перед Нэшем – газета. Сложенная так, что заголовок сразу бросается в глаза:
ТАИНСТВЕННЫЙ ВИРУС УНЕС СЕМЬ ЖИЗНЕЙВ подзаголовке сказано: «Известный общественный деятель и редактор уважаемой местной газеты предполагается первой жертвой».
Какой еще известный общественный деятель? Я читаю статью. Как выясняется, это Дункан. А я и не знал, что его звали Лесли. Но почему вдруг известный и почему вдруг общественный деятель?
Не слишком ли громко сказано, тем более если учесть, что журналист и его репортаж взаимно исключают друг друга.
Нэш стучит по газете пальцем и говорит:
– Ты уже видел?
Я говорю, что как ушел из редакции с утра, так больше и не возвращался. И, черт побери, я даже забыл отправить следующий репортаж насчет смерти в колыбельке. Я читаю статью и натыкаюсь на собственные слова. Для меня Дункан был больше, чем просто редактор – это я якобы так сказал, – больше, чем просто наставник. Лесли Дункан был для меня как отец. Черт бы побрал Олифанта и его потные руки.
Все происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда тебя пробирает озноб. По спине пробегает льдистый холодок, пульс учащается, и баюльная песня звучит у меня в голове. Не знаю, где сейчас Олифант, но могу догадаться, что с ним происходит: он тихо сползает со стула и падает на пол. Злость, копившаяся годами, прорывается снова.
Не важно, сколько людей умирает, все равно все остается по-прежнему.
На столе перед Нэшем – пустая бумажная тарелка с остатками картофельного салата. Нэш мнет в руках бумажную салфетку, скручивая ее в толстый жгут. Он глядит на меня поверх пламени свечи и говорит:
– Мы забрали того парня из твоего дома. – Он говорит: – Смерть безо всякой видимой причины в окружении кошек и тараканов. Вскрытие ничего не показало.
Тот парень, который свалился здесь, в баре, сегодня утром, парень с бачками и сотовым телефоном, – смерть безо всякой видимой причины. Медэксперты в недоумении. Потом еще – трое людей умерли прямо на улице. Между баром и зданием редакции.
– Потом еще один, в здании редакции, – говорит Нэш. – Умер, пока дожидался лифта.
Он говорит, медэксперты предполагают, что все они умерли по одной и той же причине. Из-за какого-то непонятного «вируса».
– Однако полиция подозревает, что дело в наркотиках, – говорит он. – Может быть, сукцинилхолин. Внутривенно. Сами ширнулись или кто-то вколол им его насильно. Нейромышечный блокиратор. Расслабляет все мышцы, так что человек не может нормально дышать и умирает от кислородного голодания.
Подробности о той женщине, которая пыталась меня остановить, когда я зашел за киношные ограждения, о женщине с портативной рацией: у нее были длинные черные волосы, облегающая футболка и упругие сиськи. Джинсы в облипку и маленькая аппетитная попка. Нэш вполне мог на нее польститься. Скажем, по дороге в морг.
Очередная победа.
Уж не знаю, что Нэш собирается мне сказать, но мне почему-то не хочется его слушать.
Он говорит:
– Но мне кажется, что полиция ошибается.
Нэш проводит скрученной в жгут салфеткой над пламенем свечи, пламя дергается, завиток черного дыма поднимается к потолку. Пламя выравнивается, и Нэш говорит:
– На тот случай, если ты вдруг решишь позаботиться обо мне, как ты уже позаботился обо всех остальных, – говорит он, – имей в виду, я написал письмо, где изложил все, что знаю, и оставил его у приятеля. Так что если со мной что случится, он знает, куда передать письмо.
Я улыбаюсь и говорю: что-то я не понимаю. Какое письмо? Что он знает?
И Нэш поднимает жгутик из салфетки над пламенем и говорит:
– Я знаю, что ты знал о смерти соседа. Я знаю, что парень, который стоял тут за стойкой, свалился замертво, когда ты на него посмотрел, и еще четверо человек умерли, пока ты шел отсюда на работу.
Кончик бумажного жгутика потихонечку тлеет, и Нэш говорит:
– Я понимаю, что это еще ничего не доказывает, но это все-таки больше, чем есть у полиции на данный момент.
Кончик бумажного жгутика загорается крошечным язычком пламени, и Нэш говорит:
– Может, ты лучше меня объяснишься с полицией.
Язычок пламени на кончике скрученной салфетки разгорается сильнее. В баре достаточно много народу, и кто-нибудь обязательно это заметит. Как Нэш поджигает бумагу внутри помещения. Кто-нибудь обязательно это заметит и позвонит в полицию.
Я говорю, что он бредит.
Пламя все разгорается.
Бармен глядит в нашу сторону. Бумажка в руках у Нэша становится все короче.
Нэш просто сидит и наблюдает за тем, как огонь у него в руке выходит из-под контроля.
Жар от огня – у меня на губах, глаза немного слезятся от дыма.
Бармен кричит:
– Эй! Потуши сейчас же!
Нэш подносит горящую салфетку к своей бумажной тарелке.
Я хватаю его за запястье. На белом манжете его форменного халата – желтые пятна от горчицы. Кожа под манжетом – дряблая и мягкая. Я говорю: хорошо. Я говорю: только ты перестань, хорошо?
Я говорю, что он должен пообещать ничего никому не рассказывать.
И Нэш говорит, глядя на салфетку, так и горящую у него в руке:
– Да, – говорит. – Обещаю.
Глава семнадцатая
Элен подходит с бокалом вина в руке. Густой красный всплеск на самом донышке. Бокал почти пуст.
И Мона говорит:
– Где ты это взяла?
– Вино? – говорит Элен. На ней пушистая шубка из какого-то меха разных оттенков коричневого с белыми кончиками. Шубка расстегнута, и под ней – голубой костюм. Она допивает вино и говорит: – На каминной полке. Вон там, где поднос с апельсинами и какая-то бронзовая статуэтка.
Мона запускает руки в свои черные с красным дреды и сдавливает себе голову. Она говорит:
– Это алтарь. – Она показывает на пустой бокал и говорит: – Ты выпила мое подношение Богине.
Элен сует бокал Моне в руку и говорит:
– Ну так сделай Богине еще одно подношение, только на этот раз – двойную порцию.
Мы в квартире у Моны, где вся мебель составлена в маленьком патио за стеклянными раздвижными дверями и накрыта синей полиэтиленовой пленкой. Таким образом, и большая гостиная, где мы сейчас находимся, и смежная с ней комната-ниша абсолютно пусты. Стены и ковролин на полу – светло-бежевые. На каминной полке – поднос с апельсинами и статуэтка с изображением чего-то индусского и танцующего. Там же разбросаны желтые маргаритки и розовые гвоздики. Выключатели залеплены широким прозрачным скотчем, так что свет не включишь при всем желании. Мона расставила на полу какие-то плоские камни и облепила их свечками. Свечи белые и красные. Горят не все. В камине вместо огня – еще свечи. Струйки белого дыма поднимаются от ароматных курительных конусов, расставленных на камнях вместе со свечами.
Настоящий свет бывает только тогда, когда Мона открывает холодильник или микроволновку.
Из-за стен доносится лошадиное ржание и грохот пушек. То ли храбрая и упрямая красавица южанка пытается сдержать натиск Армии Союза, которая рвется спалить квартиру соседей, то ли они смотрят фильм, врубив телевизор на полную громкость.
Из квартиры сверху доносится вой сирены и вопли, которые нам положено игнорировать. Визг шин и грохот выстрелов – нам приходится делать вид, что это нормально. Это ненастоящее. Всего-навсего телевизор. От грохота взрывов дрожит потолок. Женщина умоляет кого-то, чтобы он ее не насиловал. Это ненастоящее. Это все понарошку. Всего-навсего фильм. Мы – цивилизация мальчиков-шутников. Мы кричим, что на стадо напали волки. А волков нет и в помине.
Эти драма-голики. Эти покое-фобы.
Мона босая, в белом махровом халате. Лак у нее на ногтях – черный. Она берет у Элен бокал, измазанный по краю розовой помадой, и уносит его на кухню.
Звонят в дверь.
Мона сначала подходит к каминной полке и ставит на нее бокал с красным вином. Она говорит:
– Не ставьте меня в неудобное положение перед моим ковеном, – и идет открывать.